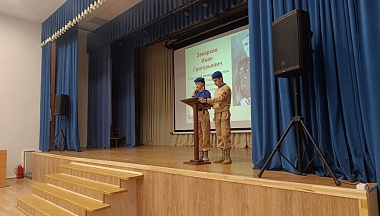Бои в районе Гнездиловской высоты генерал армии Филипп Денисович Бобков помнил всю жизнь. Часто приезжал в Спас-Деменский район, чтобы поклониться памяти погибших однополчан, встретиться с местными жителями и рассказать им, что за события происходили здесь во время войны.
Именно в Макеевке Бобков получил три из четырёх главных житейских уроков. Первый — модернизация всего общества и, в частности, экономики. Второй — угроза ареста отца в 1937 году. Третий — товарищество и интернационализм школы, в которой он учился. Четвертым уроком была война.
Святослав РЫБАС, писатель.Уроки жизни
Филипп Бобков родился на Украине. Его отец Денис Никодимович был землемером. Работа отца была связана с разъездами, семья часто переезжала из города в город. С 1929 года Бобковы жили в Донбассе, с 1932 года – в городе Макеевке Донецкой области, где отец работал на местном металлургическом заводе имени Кирова.В своей книге «КГБ и власть» Бобков рассказывает: «В 1932 году Украину потряс голод. Не обошел он и нашу семью, осевшую тогда в Макеевке. Помню, как вместе со сверстниками бегал на берег пруда и собирал там водоросли и ракушки, но главной пищей для нас были сушеные арбузные корки, которые где-то добывал отец». С теплотой Филипп Денисович вспоминал школу, учителей, однокашников. «Середина 30-х годов ознаменовалась великим энтузиазмом всего народа, в центре жизни огромной страны стоял рабочий человек. В Донбассе для школяров особую гордость составляли имена земляков: шахтеров Изотова и Стаханова, машиниста Кривоноса и трактористки Паши Ангелиной».
В самом начале Великой Отечественной войны отец Филиппа был занят на строительстве оборонительных сооружений на Днепре. Когда немецкие войска подошли к Донбассу, в октябре 1941 года он с сыном эвакуировался в Кемеровскую область. Оттуда вскоре ушел добровольцем на фронт. Филипп, проводив отца, работал в городе Ленинск-Кузнецкий. Был избран комсоргом завода, а вскоре в юном возрасте даже стал вторым секретарем горкома комсомола. Но посчитал, что работа в тылу не для него и, приписав себе лишний год, 17-летним пареньком ушел добровольцем на фронт.
Воевал он в составе 22-й стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. Один из первых ее серьезных боев – штурм Гнездиловской высоты в ходе Смоленской наступательной операции.
Крещение огнём
Филипп Бобков так вспоминал о своем боевом крещении: «Тяжелые бои шли в августе 1943 года. Нам предстояло штурмовать Гнездиловские высоты под Спас-Деменском. Немцы создали там глубоко эшелонированную оборону. По самим высотам проходил противотанковый ров шириной в 12 и глубиной в 7 метров, за ним тянулась цепь дотов и дзотов, а чуть подальше, в глубине, находились артиллерийские и минометные позиции. Но это еще не все: у подножия высот немцы вырыли три линии траншей впереди рва, перед которыми соорудили заграждения из колючей проволоки и тщательно замаскировали минные поля. Все это входило в систему оборонительного рубежа, прорыв которого открывал советским войскам дорогу на Смоленск, Минск и давал выход к Польше. Нашей дивизии поставили задачу овладеть высотой с отметкой 233,3 в районе станции Павлиново…7 августа на рассвете началось наступление. Тысячи орудий и минометов разного калибра одновременно ударили по немецким позициям. Залпы батарей слились в оглушительный грохот, казалось, что каждый куст, каждая лощинка изрыгают пламя. Артподготовка продолжалась два часа… Только после этого поднялась царица полей – пехота. Сражение длилось весь день, к вечеру вступил в бой наш полк, сменив тех, кто выбил немцев из первой траншеи, она была завалена трупами главным образом немецких солдат. Не задерживаясь, мы атаковали вторую линию обороны и довольно быстро овладели ею. С ходу влетев в глубокий, хорошо укрепленный немецкий окоп, я вдруг почувствовал страшную усталость, словно пробежал сотню километров и прожил целую вечность. Потом немного пришел в себя, огляделся и увидел нишу, заполненную немецкими ручными гранатами. Я очень обрадовался, ведь лишнего оружия в бою не бывает.
Внезапно со стороны противника донесся рев танковых моторов и затрещали автоматные очереди – немцы пошли в контратаку… Вот когда я впервые испытал настоящий страх, помноженный на бессилие!
К окопу, в котором я находился, подползало самоходное орудие «Фердинанд», позади него мелькали зеленые шинели. Раздумывать было некогда, я связал десяток немецких гранат, прикрепил к ним нашу «лимонку», которая должна была послужить детонатором, и стал ждать.
И тут произошло невероятное. Земля впереди и позади нас задрожала, вокруг заполыхала сухая трава, опушку леса заволокло дымом. Огненные стрелы разорвали вечерние сумерки. «Фердинанд» задымил, начал пятиться назад и вскоре запылал ярким пламенем. Мы поняли, что нас накрыл огонь «катюш». Как мы уцелели, одному богу известно…
Немцы убрались восвояси, а мы принялись закрепляться в занятой траншее. Следующие четверо суток наши позиции напоминали кромешный ад. Мы отбивали одну контратаку за другой, сами атаковали, обливаясь потом и кровью, теряли товарищей.
Но вот после одной нашей неудачной атаки наступило затишье. Выглянуло солнце, мы вдруг почувствовали, что жизнь продолжается, несмотря на ужасы войны. Не хотелось думать, что до ее конца еще очень далеко…
Всем сибирякам 22-й и 65-й гвардейских стрелковых дивизий навсегда запомнилась эта высота, она стоила жизни 1252 солдатам и офицерам, покоящимся там в братской могиле. Мне же эти бои памятны еще и первой боевой наградой – медалью «За отвагу».
Вскоре во время боя за станцию Павлиново пулей ранило руку. Вторая пуля пробила каску, но череп, к счастью, не задела, прошла по касательной. Лечился в медсанбате».
Отец и сын
В мемуарах он также вспоминает, что, когда находился в госпитале после ранения в Павлинове, однажды в его расположение прискакали двое всадников.«Первого я узнал сразу – комбат Захарченко, а когда разглядел второго, глазам не поверил: отец! Оказалось, он служит в соседней дивизии помощником начальника штаба полка. Узнал о моем ранении и, конечно же, разыскал.
Когда я подлечился, попросил направить в полк отца. Это оказалось делом несложным, и дальше мы воевали вместе, в одном полку, где я был назначен комсоргом батальона».
Так, в октябре 1943 года он воевал под Могилёвом. Был ранен второй раз, причем тяжело – от близкого разрыва мины получил около 40 осколочных полиорганных ранений. Находился в госпиталях, восемь месяцев провел в Центральной клинической больнице НКПС имени Семашко. Летом 1944 года вернулся на фронт, снова воевал вместе с отцом в одной части. В июле 1944 года у деревни Большие Гривны на Псковщине Денис Никодимович получил смертельное ранение и умер от гангрены.
...После войны Филипп был направлен на обучение в Ленинградскую школу «СМЕРШ». Так начался его путь в системе государственной безопасности.
Почётный гражданин
– 1 декабря Филиппу Денисовичу Бобкову исполнилось бы 100 лет. Он стал Почетным гражданином нашего района в 2004 году и с тех пор ежегодно приезжал отдать дань памяти своим погибшим товарищам. Он посещал школы, организации, очень умный, обаятельный, везде был интересным собеседником. Мы о нем храним память, в библиотеке есть его книги. Многие люди благодаря им узнали, что есть такой небольшой город Спас-Деменск, Гнездиловская высота, – рассказывает методист культурно-выставочного центра Спас-Деменска Ирина Агеева.Здесь, в центре, есть несколько уникальных экспонатов, связанных с Филиппом Денисовичем, которые передали сюда или он сам, или его родные. Например, парадный мундир и награды. Впечатляет здесь и диорама, воссоздающая один из эпизодов боев за Гнездиловскую высоту.
«Мне дорого, что калужане помнят воевавших на их земле. Убедился в этом, бывая в Спас-Деменске, в школьном музее, где увидел и следы нашей дивизии», – писал Филипп Денисович Бобков еще в 1990 году в письме начальнику УКГБ по Калужской области Николаю Иудину по вопросу создания музея калужских чекистов.
Работавший 45 лет в органах советской госбезопасности контрразведчик Бобков последовательно продвигался от оперуполномоченного до одного из руководителей самой влиятельной советской спецслужбы. Имя генерала-чекиста прочно ассоциируется с идеологической контрразведкой, борьбой с западной агентурой, расследованиями первых террористических актов в СССР. Важными направлениями деятельности Бобкова были урегулирование межнациональных конфликтов, предотвращение и локализация массовых беспорядков, противодействие «антисоветским элементам» (диссидентам), кураторство над советскими творческими союзами и деятелями культуры.
В нем военное руководство отмечает: комсомолец Бобков в боевых действиях проявил мужество и отвагу. В боях за высоты 227,2, 233,3, а также за деревню Павлиново лично уничтожил свыше 15 фашистских солдат.
«Как лучший агитатор Бобков был выдвинут на работу комсорга батальона, где проявил знания и умения вести комсомольскую деятельность в боевых условиях. Лучшим методом работы т. Бобков избрал личный пример мужества».
Андрей ГУСЕВ
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА, из архива газеты «Новая жизнь» и из открытых источников
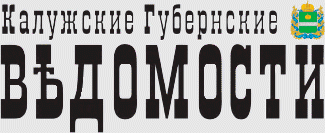
 Газета
Газета
 Прямая линия
Прямая линия